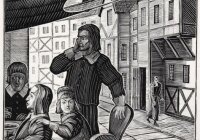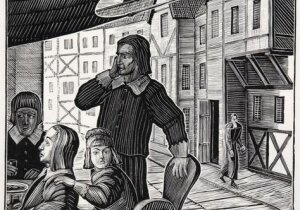|
Поцелуй свиданья
Со студенческих лет я недооценивал "Пира во время чумы".
Характер Вальсингама тоже выглядел нарочитым. Председатель как бы "раздваивался" в двух ипостасях. С одной стороны, он пытался заглушить утраты "безумным весельем" (потеряв жену и мать), - а с другой, в "гимне чуме" говорил о притягательности гибельного риска ("всё, всё что гибелью грозит / для сердца смертного таит / неизъяснимы наслажденья"). Возможно, Пушкин "поспешил" втиснуть в чумную (холерную) тему все те характеры, которые пришли ему в голову "по случаю" - и вышло так, что две психологические правды оказались в общем теле героя. Сложно представить, что похоронив жену и мать ("труп матери рыдая обнимал / и с воплем бился над её могилой"), Вальсингам вдруг говорит о "ласках милого созданья" ("Бокалы дружно пеним мы / и девы-розы пьём дыханье, / быть может, полное чумы"). Это может быть отчаянием, но никак не "наслаждением". Одним словом, я пока не могу соединить две психологические линии. Но, возможно, это и было задачей Пушкина: чтобы "зацепившись" за некий диссонанс, читатель "вытащил" из главного героя - близкую ему версию. Зато тему карантина я прочитал совсем по-новому. В период эпидемии "дуновение чумы" воспринимается иначе. Почти в документальном ключе. Наконец-то стало ясно, что означает открытый финал: "Председатель остаётся, погружённый в глубокую задумчивость". Это не просто выбор между "пирами" и скорбной памятью о жене. Но ещё и предсмертный выбор. Ясно, что Вальсингам обречён. Хотя улица закрыта на карантин, пьеса начинается со смерти Джаксона ("Его здесь кресла стоят пустые"). Становится понятно, что изоляция прорвана чумой - и участники застолья, сидевшие с покойным, скорее всего, заражены. (Инкубационный период чумы - 40 дней. Отсюда "quara" в слове карантин). Кстати, шекспировская тема "весёлых могильщиков" хорошо подходит к образу Джаксона (чей "красноречивейший язык не умолкал ещё во прахе гроба"). Весельчак, несущий смерть, - понятный образ "ухмылок" и "плясок смерти". Но участники застолья всеми силами стараются не замечать угрозы. "Он выбыл первым из круга нашего" - говорит Вальсингам, намекая на продолжение. "Но много нас ещё живых, и нам / Причины нет печалиться", - отвечает ему молодой человек. "Он выбыл первым...", "ещё живых...". Автор нагнетает приметы конца. Это застолье "неисцелимых". Но к чести Пушкина он совсем иначе видит сложную природу человека, который даже в "вызове небесам" сохраняет героические свойства и остаётся моральным существом. Там, где у Достоевского - плоская "греховность" с "вырождением", - Пушкин видит сложность человеческой природы. Религиозный аспект в "Пире..&" не важен (несмотря на появление священника и рассуждения об "аде" и "рае"). Проблема выбора у Пушкина целиком лежит в земной, моральной плоскости. Пушкин дважды намекает, что Вальсингам не жилец. До контакта с Джаксоном, он пережил смерть жены и матери ("социальная дистанция" была, конечно же, нарушена): "Ты ль это, Вальсингам, / Кто три тому недели, на коленях, / Труп матери, рыдая, обнимал / И с воплем бился над её могилой?" - говорит священник. (20 дней - как раз середина карантинного срока). Это то "ружьё", которое висит у Пушкина на сцене, хотя и не стреляет по ходу пьесы. Приём "отложенной смерти" - не первый в "Маленьких трагедиях". ("Мне что-то не здоровится. Пойду засну", - говорит Моцарт). Главное событие - совершается при жизни, это пространство выбора. А смерть - только "техническое" следствие, которое можно вынести "за кадр". В сюжете с Вальсингамом Пушкин оставляет его в момент двойной неопределённости: мы не знаем, умрёт ли он. И каков его моральный выбор (каноническая скорбь или циничный "вызов небесам"). Но логика сюжета говорит в пользу смерти. Не случайно в песне Мэри (где даны картины прошлой эпидемии) звучит тема "социальной дистанции", которую опасно нарушать: "Я молю: не приближайся / к телу Дженни ты своей, / уст умерших не касайся, / следуй издали за ней. // И потом оставь селенье! / Уходи куда-нибудь, Где б ты мог души мученье / Усладить и отдохнуть. / И когда зараза минет, / посети мой бедный прах. / А Эдмонда не покинет / Дженни даже в небесах". Сколько таких же печальных историй известно сегодня, когда с любимыми людьми нельзя проститься и они уходят в одиночестве... Мне кажется, здесь и звучит главная тема "Пира..." Точнее две темы. Первая - тема Иова, потерявшего детей и устроившего бунт против божественного миропорядка. (Холерный бунт времён Болдинской осени превращается в бунт философский). "Пир" Вальсингама - религиозный бунт, в котором отвергается религиозный канон скорби (Ты отнял у меня любимых людей, - а я плюю на твой божественный порядок. Если ты аморален, - то и для меня морали не существует). В конце пьесы Вальсингам стоит перед окончательным выбором: бунт против "небес" (и значит, потеря любимых, с которыми он может не увидеться). Или уход от пиров вслед за священником - с перспективой "встречи в небесах". (Об этом, конечно, многие писали). Но есть и вторая тема, мне кажется, менее явная. Вальсингам подозревает, что земная любовь - не слабее "небесной". А значит, чтобы встретиться за гранью бытия, - "небеса"не обязательны. Пушкин доверяет Вальсингаму свою собственную тему агностика, которая ясно звучит в лирике 1830 года... Это философский мотив человека, который (чувственно) знает о встрече с любимым, но который не нуждается для этого в христианской традиции (в том числе, в канонической теме "небес"). Очень многие тексты позднего Пушкина - об этом. Чувственная встреча с "милым прахом" - это тема земной любви, которая ничуть не слабее "небесной". (Тот же "Гробовщик" 1830 года - тоже о встрече с "прахом", хотя речь идёт о встрече с "клиентурой". Главное, что "загробный мир" - остаётся доступным для встречи). Священник угрожает Вальсингаму, что его мать "плачет в небесах", взирая на "разврат" и "бешеные песни". И требует канонической скорби, не понимая, что пир - это и есть выражение отчаяния, - а значит, и любви. Этого не видит религия. Но для близких людей - сердца остаются открыты. В песне Мэри девушка сама отталкивает любимого, заклиная "не приближаться" к ней и "следовать издали". Физически разлука ничего не значит, если Дженни его "не покинет". Речь идёт о том, что разлука, "социальная дистанция", разлучающая сила смерти, - относительны и не-абсолютны. Не только "в небесах", но и на земле. Если вы не можете обнять близкого человека (а смерть - это тоже "социальная дистанция"), то побеждает не дистанция (в том числе, между "раем" и "адом"), а чувство к человеку. Вальсингам убеждён, что "ад" и "рай" (вопреки посулам священника) не разлучат его с женой. Есть нечто более "связующее" для влюблённых, чем религиозная конструкция мира. И это (безусловно) пушкинская мысль, доверенная герою. Дистанция для любящих - не имеет значения. Будь это смерть, карантин, "рай" или "ад". "Уст умерших не касайся, следуй издали за ней" - просит покойная Дженни, выражая прекрасную силу любви, когда ты хочешь счастья любимому человеку. И поэтому просишь о дистанции... Вальсингам как бы следует просьбе "не приближаться". Словно по сюжету этой песни, он пытается "покинуть селенье" и "уйти куда-нибудь" (из пустого дома, в застолье и отчаянье, в творчество, в бунт против "небес" и в сочинение "гимна"). Возможно, об этом и размышляет герой, остающийся "в глубокой задумчивости". Пушкин удивительно светел и гуманистичен. Отчаяние и смятение, "уклонения" страстей - никогда не приговор, не тупая "греховность", а, скорее, - надежда. Тема посмертной любви, загробного свидания (которая звучит в песне Мэри) - это очень личная тема. ("Заклинание", "Для берегов отчизны дальной..." - это тоже 1830 год). Совершенно невозможно представить себе православного человека, написавшего "Заклинание", где чувственная любовь соперничает с религиозной вечностью и побеждает смерть почти физически: "О, если правда, что в ночи, / Когда покоятся живые / И с неба лунные лучи / Скользят на камни гробовые, / О, если правда, что тогда / Пустеют тихие могилы, / Я тень зову, я жду Лейлы: / Ко мне, мой друг, сюда, сюда!" // "... Хочу сказать, что всё люблю я, / что всё я твой. Сюда, сюда!" Между тем, Библия грозит "истреблением" тем, кто "вызывает души умерших". ("Если какая душа обратится к вызывающим мёртвых, чтобы блудно ходить вслед, то я истреблю её". - Левит, 20:6) В другом прекрасном тексте "Для берегов отчизны дальной" Пушкин ждёт обещанного "поцелуя свиданья" от умершей возлюбленной. ("Но жду его; он за тобой"). Грешный Вальсингам нарушает каноны "скорби", предаваясь "пирам", - но за смятением души - всё же стоит любовь, которая важней религиозного канона. Да и сам бунт против "чумной" морали бога, истребляющего любящих, - заставляет Вальсингама искать для своей любви - земное, а не "небесное" основание. Это очень точный, светлый и гуманный взгляд на человека, далёкий от Левита и Библии в целом. Земное может быть не менее "бессмертным", чем "небесное", если оно освящено любовью. И наоборот: "небесное" (идущее от бога) - может быть враждебным для любви (чумная эпидемия). По сути, история Вальсингама - это философская притча о посмертной встрече влюблённых. И о вере в её реальность вне религиозной парадигмы "ада" и "рая". Нужно ли (как Иов) раскаяться "в прахе и пепле", чтобы обрести возможность "небесной встречи"? Или достаточно чувства "здесь и сейчас", - которое окажется сильнее "небесного порядка"? Пушкин словно ищет для Любви иное, чем "божественный порядок", место в мире - и это тот мистический "завет", который будет актуальным в пост-христианскую эпоху. Гуманный взгляд на вещи никогда не согласится с доктриной, что у любви и "истребления" людей - один и тот же "небесный" источник. Отвергая ненависть небес - вместе с божественным миропорядком, - Вальсингам задаётся вопросом о месте любви. И ищет для неё земной, но бессмертный образ. У любви могут быть очень разные лица. Она может выражаться в отчаянии и отрицании. Даже в саморазрушении и бунте против "основ". Но всё равно - это её преломления. В конце, подобно Вальсингаму, читатель остаётся погружённым "в глубокую задумчивость". И пытается понять, абсолютна ли "последняя разлука"? И где встречаются влюблённые - за гранью этой жизни. Гравюра: В.Фаворский
20 АПРЕЛЯ 2020
|
ALEXANDR HOTZ
Смотрите также
|
Магазин Sexmag.ru
|
|
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
|
* КВИР (queer) в переводе с английского означает "странный, необычный, чудной, гомосексуальный". |